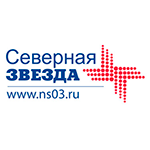За порог и на свалку
Проблема накопления, обработки и удаления больничных отходов за прошедшее время еще более обострилась, о чем свидетельствует тот факт, что на исходе 2000 года ей даже было посвящено одно из заседаний Московской городской думы, искавшей ответ на вопрос, что же все-таки делать с медицинскими отходами.
Ведь довольно большая часть из них относится к высокотоксичным производным, которые не подлежат вывозу на городские свалки. И хранить их можно только в запаянных стальных баллонах, двукратно проверенных на герметичность. Как ни удивительно, но единой универсальной системы накопления, удаления и уничтожения медицинских отходов до сих пор нет ни в Москве, ни в других городах страны. То есть в теории-то она существует, причем довольно давно, а вот с практическим воплощением ничего не получается. Жаль, потому что сохранять, а тем более укреплять здоровье населения можно лишь в том случае, если оно проживает в благополучной окружающей среде. А оно десятилетиями не обращало внимания на окружающую грязь и общую неухоженность. Люди-то привыкли, а вот среда не выдержала такого к себе отношения.
В наших лечебно-профилактических учреждениях все делается по старинке: выбросили мусор в расхлябанные баки, заплатили за его количество положенную по расценкам сумму и вывезли на ближайшую свалку. А в нем же не только пищевые отходы, но и остатки лекарств, стекло, перевязочные материалы, кровь и много всего прочего. В этом нескончаемом потоке невозможно отследить даже "судьбу" ампутированных конечностей. И уж к слову говоря, хотя с особой точностью и не подсчитано, но есть сведения, что в Москве на городские свалки только одной ртути вывозится с разбитыми медицинскими приборами до 5 т ежегодно.Нет особой ясности и в том, что происходит в инфекционных больницах. По санитарным правилам там все отходы предварительно обеззараживаются, чтобы свести на нет инфекционное начало. С какой тщательностью исполняется это в наши дни, оценить довольно затруднительно. Ну а если пациент пользуется обычным туалетом, то оно, это начало, прямым путем следует по городской канализации, к которой подключена больница. Там-то условия для роста микроорганизмов просто идеальные. И это продолжается из года в год. А собственными очистными сооружениями не может похвастать ни одна из существующих инфекционных больниц. Так что из всего этого можно получить в конечном итоге?А можно жить иначеВывод напрашивается сам собой: должна существовать внутрибольничная система удаления отходов, начиная от приемного отделения и заканчивая моргом. И система эта отработана до деталей, включая сбор, накопление, обработку и уничтожение отходов. Специалистами НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды было предложено сооружать при лечебно-профилактических учреждениях малогабаритные мусоросжигательные печи - таковые разработаны и рассчитаны на переработку 0,3-0,5 т отходов в сутки. Однако они так и не нашли применения, хотя с гигиенических позиций заслужили самую высокую оценку. Предлагались и централизованные сооружения в рамках городской системы. Но ничего не меняется в этой сфере. Видимо, вывозить мусор на свалку - дело менее хлопотное. Вот если что случится, тогда можно и призадуматься.Возникает какая-то непонятная ситуация. Правительство Москвы выделяет средства на установку такой опытной печи в любой городской больнице. Есть предприятия, их производящие (например, ЭНИН им. Г.М.Кржижановского), фирма, ответственная за выполнение этой работы ("Такма"). Специалисты готовы провести все необходимые контрольные анализы. Все стороны просто переполнены решимостью, только дела нет и результаты нулевые. Что бы это значило?Да, пожалуй, ничего особенного. За рубежом тоже такие печки разработаны... Нужно ли дальше объяснять про волнительные поездки "заинтересованных лиц", закупки и заманчивые проценты? Видимо, никакого значения не имеет, что те установки разрабатывались под иные параметры, что российский мусор от зарубежного отличается, и еще неизвестно, с какой эффективностью он будет сгорать, но это ж все потом выяснится. Соблазн-то велик...Больницы больницами, но и в быту хватает отбросов медицинского профиля, особенно лекарственных препаратов с просроченным сроком действия. Закупают их впрок, как говорят, из-за неуверенности в завтрашнем дне, хотя и раньше население не скупилось на приобретение лекарств, благо они и стоили дешево. Проблема отнюдь не нова. Их выбрасывают в придомовые мусоросборники, а то и рядом с ними, и хорошо если они попадут прямым ходом на свалку, а не в руки тех, кто ведет в мусоре "изыскания". Правда, и лекарства, попавшие на свалку, целеустремленно выбирают бомжи, неизвестно кому и где продают их, а то и себя ими пользуют. Травятся ведь сейчас не только алкогольными суррогатами.Текут мутные потокиА тут еще неизбывная головная боль для Мосгордумы и таможни - лекарства с просроченным сроком годности. На таможенных складах этого "добра" скопилось уже около 600 т. Начали было захоранивать на полигоне под Солнечногорском, да выяснилось, что гидроизолирующий слой его, мягко выражаясь, не совсем надежен, а потому Московский областной центр Госсанэпиднадзора с полным основанием запретил подобную деятельность.Как говорит Николай Русаков, заместитель директора по науке НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, в результате такого захоронения могли бы оказаться загрязненными биологически активными соединениями грунтовые и артезианские воды не только Солнечногорского, но и Клинского, Дмитровского, Химкинского и ряда других районов Московской области. Перспектива не из приятных. Кстати, кто бы ответил на вопрос, куда девают негодные к употреблению лекарственные препараты другие таможни? Их по стране множество, а проблема для всех одинакова...Есть и еще существенная причина для беспокойства. Энергетический кризис, который поразил в эту зиму обширные территории страны, унес не только тепло из замерзших квартир. Нехватка топлива парализовала и деятельность коммунальных служб, вывоз мусора на свалки в ряде мест нарушился основательно. Пока его залежи заметены снегом, но весна не за горами и все это потечет и забродит...В сложившихся условиях, говорит Русаков, последствия просто непредсказуемы, и вероятность вспышек заболеваний среди населения резко возрастет с приходом тепла.В России на свалки вывозится около 95 проц. мусора от его общего количества. И на всю страну для захоронения токсичных отходов было когда-то сооружено всего два специализированных полигона. Один заполнен до предела, второй уже близок к тому. Теперь, правда, и бытовые свалки принято называть полигонами, да только изменение названия не отразилось на их сущности. Полигон в отличие от свалки - сложное инженерное сооружение с надежной гидроизоляцией и различными природоохранными системами. А под Москвой функционируют около 200 свалок, загрязняющих округу, причем под Ногинском находится самая большая в мире. И расположена она, совсем некстати, на разломе земной коры, так что загрязнения ее по водоносным горизонтам могут разноситься неизвестно куда и на неопределенные расстояния. Если бы центры Госсанэпиднадзора осуществляли свою деятельность так, как положено, может быть, и санитарная ситуация в этом плане была бы иной.В Подольске Центром Госсанэпиднадзора было исследовано распространение загрязнений от промышленных свалок. Они определялись за десятки километров от места складирования. Есть опасения, что они вскоре подойдут к местам артезианского водозабора. И что тогда? Закрывать источник питьевого водоснабжения или ломать голову над системой очистки? Дорого обойдутся дешевые решения. Все эти свалки в стране, утверждает Николай Русаков, не что иное, как мины замедленного действия, которые еще дадут о себе знать человеку.Понятно, что организация единой системы сбора и уничтожения больничных отходов и непригодных к употреблению лекарственных препаратов потребует выделения транспортных средств, размещения и устройства установок по их уничтожению, да и соответствующего воспитания населения. За рубежом такие системы существуют, а мы все только наблюдаем за эффективностью их работы с высоты мусорного Монблана. Только, в противоположность естественному, наш не очень-то устойчив. Не рухнуть бы вместе с ним.Источник: "Медицинская газета", N 16-17, 2001

 How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue?