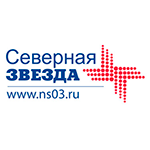Первую аптеку в России основал Джемс Френчем в 1581 году.
), голландском аптекаре Аренде Клаузинде, прожившем в России 40 лет, и аптекаре Николае Броуне, но об их аптеках никаких сведений не сохранилось.
Аптека Френчема была царской, придворной. Снабжалась она лекарствами и из-за границы, и из различных регионов России. Для сбора лекарственных растений были заведены аптекарские сады и огороды: в Москве они первоначально располагались близ Каменного моста, у Мясницких ворот, близ Немецкой слободы, а потом и в других местах. Правда, большинство садов и огородов принадлежало не Аптекарскому приказу. Это и неудивительно, если учесть, что они занимались не только лекарственными растениями, но и производили спирт и вино. Так, известно, что Московский аптекарский двор (огород) снабжал подмосковные села вином и медом-сырцом. Из-за этого-то прибыльного во все времена дела многие приказы пытались получить право владеть и распоряжаться аптекарским двором. Наконец, при царе Федоре Алексеевиче (конец XVII века) аптекарский двор (огород) и другие дворы Московского и других уездов, которые прежде принадлежали Приказу тайных дел, царским указом были переданы в Приказ большого дворца.Уже в конце XVI – начале XVII века врачи в России применяли не только такие общеупотребительные тогда привозные лекарства как опий, камфара, александрийский лист и пр., но и многие лекарственные растения из арсенала русской народной медицины – солодковый корень, можжевельник и ряд других. В дальнейшем ассортимент лекарств, отпускавшихся из аптек Аптекарского приказа, еще более возрос. При этом больше стало лекарственных трав, произраставших в различных регионах России: такие травы поставляли в Аптекарский приказ в обязательном порядке как своего рода государственный налог – ягодную повинность.Использование лекарственных растений, или, по-современному, фитотерапия, прочно вошло тогда в лечебную практику врачей Аптекарского приказа. Считалось, например, что буквица "мокроту выведет из груди. Камни в почках крошит и мочу выводит": ее назначали как отхаркивающее и мочегонное средство, а также использовали при лечении лихорадок и болезней печени, для заживления ран и предупреждения отравлений. Огородную мяту использовали как противорвотное и возбуждающее аппетит средство. Ромашку применяли при лечении 25 заболеваний. В лекарства, которые готовили в аптеках, помимо растительных средств аптекари по назначению врачей включали и различные органические и неорганические вещества – жир, мед, различные минералы и металлы.Начиная с 30-х годов XVII века лекарства из аптеки по указанию царя начинают постепенно отпускаться "для всех чинов людей".Царь повелел "на новом гостином дворе, где приказ Большого Приходу, очистить палаты, а в тех палатах указал Великий Государь построить аптеку для продажи всяких лекарств всяких чинов людей". Эта вторая аптека (она называлась "Новой") быстро завоевала авторитет в Москве. В 1682 г. при первом гражданском госпитале у Никитских ворот была открыта третья аптека.В это же время были предприняты попытки устройства аптек в других городах России. В 1673 г. было велено устроить аптеку в Вологде, а в 1679 г. – в Казани. Наконец, в 1701 г. Петр I приказал устроить в Москве восемь аптек.Взаимоотношения медиков, трудившихся в Аптекарском приказе, были обычными для медицины того времени и строго выдерживали установленную иерархию: доктора, лекаря, костоправы, аптекари, лекарские, алхимистские, аптекарские ученики, другие работники. Однако временами эти отношения по каким-то причинам обострялись, переставали соответствовать должностной иерархии. Тогда в дело вмешивалась власть – Аптекарский приказ готовил, а царь подписывал соответствующий указ.В учебнике "История медицины" (П.Е.Заблудовский и др., 1981) приведен указ царей Ивана и Петра Алексеевичей "Об улучшении постановки аптечного и медицинского дела в Аптекарском приказе", в котором говорилось, что доктора и аптекари не имеют между собой доброго согласия, "безо всякой причины" между ними наблюдаются часто "вражда, ссора-клевета и нелюбовь". Отсюда у младших чинов к докторам и аптекарям "непослушание в делах нерадение". В указе отмечено, что при таком положении изготовленные лекарства вместо пользы могут причинить людям страдание. Для наведения должного порядка в медицинском деле и в аптеках указ предписывал каждому доктору и аптекарю принимать присягу и клятву.Хотя ценность таких средств предотвращения профессиональных конфликтов как присяга и клятва давно уже сомнительна, все же в XVII веке, надо думать, они обладали действенной силой.Аптекарский приказ пытался внести свою лепту и в решение задачи, явленной еще на Стоглавом соборе (1551г.), – в создание государственных больниц. Правда, больницами в России многие столетия, с XI века, традиционно занималась движимая христианским милосердием Православная Церковь."Церковь на Руси, – писал В.О.Ключевский, – ведала тогда не одно только дело спасения душ: на нее возложено было много чисто земных забот, близко подходящих к задачам государства. Она является сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской государственной власти в устроении общества и поддержании государственного порядка".Православная церковь не прекращала заботиться о больных и страждущих и в ХVI-ХVII веках, после организации Аптекарского приказа. Поэтому ложны утверждения некоторых историков медицины советского времени (Н.А.Богоявленский и др., 1960), что больницы при монастырях, которые на Руси стали строить с XI века, "обеспечивали в первую очередь интересы социальной верхушки и никогда не были филантропическими учреждениями для социальных низов".Проведенный русскими историками анализ Писцовых книг, относящихся ко второй половине XVII века, показывает, что уже тогда православная церковь содержала немало помещений для призрения (Н.Я.Новомбергский, 1907, называет их "особыми местами для призрения немощных"). Например, только в 23 уездах и вотчинах Троице-Сергиевой лавры было 1132 таких помещения, а в 12 городах – 470 помещений. Разумеется, это были в основном богадельни, однако же не подлежит сомнению, что многие из них замещали отсутствовавшие больницы для увечных и калек. Правда, это не относилось к душевнобольным – как правило, их помещали тогда в монастыри, но порой и в тюрьмы. Православные монастыри долго продолжали оставаться единственным местом лечения тех, кто "в уме помешался".Призрением и лечением больных занимались многие служители православной Церкви (они были тогда наиболее образованными людьми), от монахов до высших церковных иерархов. Искусным врачевателем показал себя архиепископ Холмогорский и Вятский Афанасий, образованный человек, много занимавшийся в Патриаршем книгохранилище в Москве, знакомый с известным просветителем XVII века Епифанием Славинецким.При Холмогорском монастыре Афанасий завел аптеку, в которой был широкий набор лекарств, в т.ч. доставленных из Москвы: об этом свидетельствует находящаяся в библиотеке Академии наук рукопись "Тетрадь преосвященного Афанасия архиепископа Холмогорского", в которой приведена "роспись" лекарств – масел (гвоздичного, мятного, анисового, полынного, сперматанарум), мазей (диалтейной, попилевой, белильной, бобковой), сложных порошков, сиропов, бальзамов. Афанасий был и автором научных трудов, в т.ч. по медицине – наибольшую ценность представляет "Преосвященного Афанасия архиепископа Холмогорского и Вятского Реестр из доктурских наук" (рукопись хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге).Автор:Игорь ИГРИЦКИЙОкончание следует

 How to resolve AdBlock issue?
How to resolve AdBlock issue?